The Cold War guilt question
As early as 1948 American left-liberals blamed the Truman administration for the icy tone of its relations with Moscow, while rightists blamed the Communists but accused Roosevelt and Truman of appeasement. Moderates of both parties shared a consensus that Truman's containment policy was, as the historian Arthur Schlesinger, Jr., wrote, “the brave and essential response of free men to communist aggression.” After all, Stalin's tyranny was undeniable, and his seizure of countries in eastern Europe one by one was reminiscent of Hitler's “salami tactics.” To be sure, Roosevelt may have helped to foster mistrust by refusing to discuss war aims earlier and then relying on vague principles, and Truman may have blundered or initiated steps that solidified the Cold War. Those steps, however, were taken only after substantial Soviet violation of wartime agreements and in fearful confusion over the motivations for Soviet policy. Was the U.S.S.R. implacably expansionist, or were its aims limited? Was it executing a plan based on Communist faith in world revolution, or reflecting the need of the regime for foreign enemies to justify domestic terror, or merely pursuing the traditional aims of Russian imperialism? Or was it only Stalin's own paranoia or ambition that was responsible for Soviet aggression?
The fact that Western societies tended to parade their disagreements and failures in public, in contrast to the Soviet fetish for secrecy, guaranteed that historical attention would fix on American motivations and mistakes. In the late 1950s and the 1960s, traditional left-liberal scholars smarting from the excesses of McCarthyism and new leftists of the Vietnam era began publishing revisionist interpretations of the origins of the Cold War. The “hard revisionism” of William Appleman Williams in 1959 depicted the Cold War in Marxist fashion as an episode in American economic expansion in which the U.S. government resorted to military threats to prevent Communists from closing off eastern European markets and raw materials to American corporations. Less rigidly ideological “soft revisionists” blamed the Cold War on the irascible Truman administration, which, they charged, had jettisoned the cooperative framework built up by Roosevelt at Tehrān and Yalta and had dropped the atomic bombs on Japan as a means of frightening the Russians and forcing an “American peace.” These revisionist interpretations were based not so much on new evidence as on new assumptions about U.S. and Soviet motives, influenced in turn by the protest movements against the Vietnam War, nuclear weapons, and the alleged domination of American society by the “military-industrial complex.” Looking back to the years after 1945, the revisionists argued that Stalin was not a fanatical aggressor but a traditional Soviet statesman. After all, the Soviet Union had been brutally invaded and had lost 20,000,000 lives in the war. Stalin could thus be excused for insisting on friendly governments on his borders. He was betrayed, said revisionists, by American militancy and Red-baiting after the death of Roosevelt.
Traditional historians countered that little evidence existed for most of the revisionist positions. To be sure, American hostility to Communism dated from 1917, but the record proved Roosevelt's commitment to good relations with Stalin, while no proof at all was forthcoming that American policy makers were anxious to penetrate eastern European markets, which were, in any case, of minor importance to the U.S. economy. Williams rebutted that policy makers so internalized their economic imperialism that they did not bother to put their thoughts on paper, but this “argument from no evidence” made a mockery of scholarship. The preponderance of evidence also indicated that the atomic decision was made for military considerations, although isolated advisers did hope that it would ease negotiations with Moscow. These and other examples led most historians to conclude that, while the revisionists brought to light new issues and exposed American aimlessness, inconsistency, and possible overreaction at the end of World War II, they failed to establish their primary theories of American guilt.
Historians with a longer perspective on the Cold War transcended the passions of Vietnam-era polarization and observed that deeper forces must have been at work for the Cold War to have persisted for so long after 1945. Indeed, it is difficult to imagine how leaders of the two countries could have sat down agreeably and settled the affairs of the world. The new superpowers were wrenched out of isolationism and thrust into roles of world leadership, they nurtured contrary universalist ideologies, and they mounted asymmetrical military threats (one based on conventional weapons, sheer numbers, and land power; the other on nuclear might, technological superiority, and air and sea power). To these liabilities could be added the fact that both countries had been forced into World War II by sneak attacks and had resolved never again to be seduced into appeasement or to be taken by surprise.
Even such a balanced long-range view should not be taken uncritically. It remains the case that the Cold War grew out of specific diplomatic disputes, among them Germany, eastern Europe, and atomic weapons. Could those disputes have been avoided or amicably resolved? Certainly some prior agreement on war aims might have softened the discord after 1945, but Roosevelt's policy of avoiding divisive issues during the war, while wise in the short run, enhanced the potential for conflict. It might, without undue exaggeration, be said that the United States entered the postwar period with only a vision of a postwar economic world and few political war aims at all, and thus had little excuse for indignation once Stalin set out methodically to realize his own aims. But this does not justify a Soviet policy bent on denying self-rule to neighbouring peoples and imposing police states as cruel as those of Hitler. Although the Soviets had lost 20,000,000 in the war, Stalin had killed at least an equal number of his own citizens through deliberate famine and purge. American hegemony, if it can be called that, was by contrast liberal, pluralistic, and generous.
The question has been posed: Is it not an expression of American exclusivism, self-righteousness, or cultural imperialism to insist that the rest of the world conform to Anglo-Saxon standards of political legitimacy? Even if so, critics must take care not to indulge in a double standard: excusing the U.S.S.R. for being “realistic” and damning the United States for being insufficiently “idealistic.”
После войны «голуби» в США осуждали администрацию Трумэна за ледяной тон общения с Москвой, в то же время «ястребы» не только обвиняли Советский Союз в начале «холодной войны», но также критиковали Рузвельта и Трумана в отличие от за пассивное поведение в связи с распространением коммунизма по всему миру. И те и другие сошлись на том, что необходимо осуществлять политику сдерживания коммунизма, которую США стали осуществлять к концу 1940-х гг.
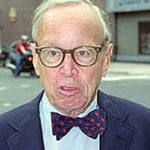 «Сдерживание» коммунизма, писал американский историк Артур Шлезингер-мл.стало мужественным и необходимым ответом свободного мира на коммунистическую экспансию в послевоенном мире".
«Сдерживание» коммунизма, писал американский историк Артур Шлезингер-мл.стало мужественным и необходимым ответом свободного мира на коммунистическую экспансию в послевоенном мире".
Тирания Сталина была бесспорной как и советское влияние в странах Восточной Европы, которую Москва подчиняла себе, осуществляя так называемую "тактику салями". Ф.Д. Рузвельт, безусловно, способствовал росту недоверия со стороны Москвы, когда отказался в годы войны делится с советским командованием планами ведения войны с Гитлером, заключив в 1941 г. только с Англией так называемую "Атлантическую хартию".
Трумэн также предпринял ряд мер, укреплявших настрой Советского Союза на «холодную войну» с Западом.
см. Внешняя политика администрации Трумэна.
Но и Советский Союз после войны также нарушал соглашения военного времени. Не ясно было союзникам по антигитлеровской коалиции, что планирует кремлевское руководство после войны: мировую революцию или ставит перед собой менее грандиозные задачи, в духе традиционных имперских амбиций России. Многие на Западе, сохраняя в целом симпатии к Советскому Союзу, рассматривали советский экспансионизм после войны как проявление сталинской паранойи, его личных амбиций.
Оценки виновников «холодной войны» в американской историографии изменили так называемые «новые левые». В конце 1950-х - в 1960-е гг., либерально настроенные американские ученые были возмущенны маккартизмом и Вьетнамской войной. «Новые левые» среди этой волны американских авторов по своему отвечали на вопрос : кто виноват в начале «холодной войны». Они провели ревизию оценок традиционной американской историографии по этому вопросу. Так, Уильям Апплеман Вилльямс в 1959 изобразил «холодную войну» фактически с марксистских позиций, представляя её только как эпизод американской экономической экспансии, которую США дополнили политикой « с позиций силы», как он писал, чтобы её расширить, сдерживая Советский Союз, используя экономические возможности американских монополий на рынках сырья в восточноевропейских стран. Менее идеологизированные либералы или так называемые "мягкие ревизионисты " обвиняли США в происхождении «холодной войны» непосредственно администрацию Трумэна, которая, как они считали, стала разрушать согласованную с СССР структуру международных отношений, созданную Рузвельтом в Teгеране и Ялте, приказала, в частности, сбросить атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки как средство устрашения Советского Союза. Это была «большая дубинка для русских парней». Фактически, это была форма достижения «Pax Americana».
Позиции ревизионистов в американской историографии усиливало антивоенное движение в США в связи с началом Вьетнамской войны, а также антиядерное движение, которое развернулось в это время на Западе, инициаторы которого подчёркивали заинтересованность военно – промышленного комплекса в США в гонке ядерных вооружений.
Сталин не был агрессором – фанатиком, писали американские «новые левые». Он действовал как традиционный российский государственный деятель, в духе имперских амбиций России. В конце концов, Советский Союз жестоко пострадал в ходе Второй мировой войны, потерял 20000 000 жизней в войне. Уже только поэтому можно понять и оправдать поведение Сталина, ибо он, распространяя советское влияние на Восточную Европу, стремился создать дружественные Советскому Союзу приграничные государства (буфер). Естественно также выглядит и то, писали ревизионисты, что он был возмущен вероломством Запада, в частности, американской воинственностью и травлей красных (маккартизм, гонение на ведьм) после смерти Рузвельта.
Историки – традиционалисты не смогли в это время противопоставить ревизионистам убедительные аргументы. Никто не сомневается, писали они, что вражда США к Советам родилась после 1917 г. , но Рузвельт строго соблюдал обязательства, данные Сталину в годы войны. Нет доказательств, что американские монополии стремились на рынки Восточной Европы, ибо особого значения для американской экономики эти рынки не имели.
«Новые левые», творившие в США в 1960-х гг., в эпоху Вьетнамской войны, были более убедительны в своих выводах. Трудно вообразить себе, доказывали они, что сверхдержавы – СССР и США - вообще способны были договориться между собой. Их разделяли две взаимоисключающие друг друга универсальные идеологии устройства мира под своим руководством. Ради этого сверхдержавы стремились добиться ассиметричной угрозы друг против друга, причем Советский Союз больше в обычных вооружениях, используя свои достижения в этой области, а США – в ядерном оружии, а также использовали своё превосходство в авиации и военно – морских силах. Опыт Второй мировой войны научил обе стороны, что нельзя допустить того, чтобы тебя застали врасплох.
Эти сбалансированные в целом выводы, тем не менее, вызывают критику. «Холодная война» рождалась в дипломатических спорах по германскому вопросу, судьбах Восточной Европы, вокруг атомной проблемы и т.д.
Можно ли было избежать споров и разногласий по всем этим вопросам? Конечно, ялтинско – потсдамские соглашения создавали для этого основу, ибо ялтинско-потсдамская система международных отношений содержала больше поводов для конфликтов, чем для сотрудничества. Этого, кстати, Рузвельт либо не понимал, либо недооценивал, либо просто не хотел об этом даже думать, когда эта система договоров формировалась.
Американские авторы ставят, исходя из этого, разные вопросы: разумно ли было для США усугублять потенциал разногласий с Советским Союзом, содержащийся в ялтинско – потсдамской системе? Можно ли оправдать экспансию Советского Союза в сторону Восточной Европы жертвами, которые он понес в ходе Второй мировой войны, если собственных граждан Сталин уничтожил в ходе террора и организованного голода не меньше, если не больше того, что Красная Армия потеряла на полях военных сражений?
Вопросы также касались идей “Pax Americana”? Можно ли, например, оправдать американский гегемонизм? Что это было: проявление самодовольства США; американской исключительности; культурного империализма или чего-то другого, учитывая, в частности, щедроты, которые американцы раздавали своим западным союзникам по антигитлеровской коалиции и побеждунным немцам и японцам?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ялтинско-потсдамская система международных...
Ялтинско-потсдамская система международных...
Реферат: Ялтинско-потсдамская система...
Ялтинско-Потсдамская система международных...
...слом Ялтинско-Потсдамской системы международных...
Ялтинско-потсдамская система международных...
Основные особенности ялтинско-потсдамского порядка
1. Распад Ялтинско-Потсдамской системы...
Ялтинско-потсдамская система международных...
...Ялтинско-Потсдамской системы международных...
Шлезингер, Артур Мейер — Википедия
Артур Шлезингер: О прошлом, о будущем, о настоящем...
Шлезингер Артур Мейер (младший)
...“Циклы американской истории” Автор: Шлезингер Артур...
А. Шлезингер-младший
Артур Мейер Шлезингер биография, Демократический...
ШЛЕЗИНГЕР АРТУР МЕЙЕР МЛАДШИЙ - Большая...
Шлезингер А. Циклы американской истории - электронная...
Артур Шлезингер мл. (Arthur Schlesinger Jr.)...
Артур Шлезингер мл. - фильмография